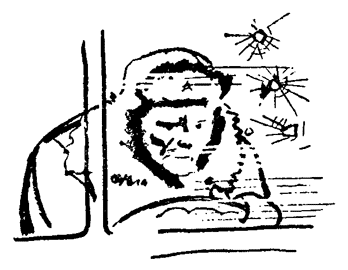
Декабрь 1941 года выдался в Ленинграде на редкость студеным. Фиолетовый столбик термометра быстро сполз к самой нижней черте, как бы намереваясь испытать характер ленинградцев: против всемогущего голода они пока что держатся, а вот сумеют ли устоять перед леденящим дыханием лютых морозов?
Ленинградцы держались, хотя и тяжко им было в те декабрьские блокадные дни, особенно когда холода стали вовсе нестерпимыми. Даже привычные к зимним стужам воробьи и те замерзали на лету, камнем падая на крыши домов. Над невскими полыньями клубился по вечерам густой белый пар, что предвещало новое понижение температуры. Фашистские самолеты, пролетев над городом, сбросили листовки: «Доедайте жмыхи, готовьте гробы».
Однажды утром, попав на Петроградскую сторону, на пустынных улицах которой хозяйничал сердитый балтийский норд-вест, я услышал поразивший меня рассказ про ладожского военного шофера. Собственно, это был даже не рассказ, а нечто напоминающее легенду об удивительном герое, какие существуют лишь в воображении людей.
В тесной комнатушке, бывшей дворницкой, занятой домоуправлением, монотонно и убаюкивающе тикал метроном. Возле остывающей печи, зябко потирая красные руки, стояла высокая женщина в солдатском ватнике. Рядом с ней пристроились дружинницы бытового отряда.
Дружинницы пришли с утреннего обхода своего участка и продолжали разговор, возникший на улице. — Так я же, тетя Нюша, и не думаю отказываться!— всхлипывая, оправдывалась одна из дружинниц, совсем еще молоденькая девушка с торчащими из-под меховой шапки косичками. — Просто не поспеваю везде... В двенадцатой квартире, у Агафоновых, трое лежат. Вчера я им хлеб выкупала, воды принесла с Невы, плиту стопила... В семнадцатой и двадцать девятой тоже все заболели, даже не встают дверь открыть... Трудно мне с ними...
— Выходит, тебе одной трудно? — сердито спросила тетя Нюша, потуже затягивая свой солдатский ремень. — А как же бойцы на передовой? Им разве легче? Да мы с тобой и во сне того не увидим, что они, бедные, должны переносить! И ничего — помалкивают, дело свое делают... А ты сразу в слезы; разве это по-комсомольски получается?
В дворницкой наступила неловкая пауза. Девушка всхлипывала все реже и реже. Тогда тетя Нюша молча обняла ее, потрепала по мокрым от слез щекам:
— Ладно, Сашенька, хватит хныкать... Все образуется, вот увидишь. Ты, главное, фронтовиков наших почаще вспоминай — небось, сразу легче будет. Я ведь на фронте побывала с делегацией, видела, как они живут. Хочешь, расскажу? Это и вам, девушки, полезно знать...
— Расскажите, тетя Нюша! — попросили дружинницы, охотно придвигаясь к своей руководительнице.
— На Ладоге был случай, — начала рассказывать тетя Нюша, — на ледовой, стало быть, дороге. Ехал к нам в Ленинград шофер один. Молоденький еще парнишка, комсомолец. С хлебом его послали. «Езжай, — говорят. — дорогой товарищ, и непременно довези хлеб в целости и сохранности. Сам знаешь, не сладко ленинградцам в блокаде».
Вот он и поехал. А на Ладожском озере в тот день разбушевалась страшенная пурга-метелица. Дорогу замела сугробами, шумит, беснуется. Увидела шофера с хлебом и давай кричать диким голосом: «Не пропущу! Не пропущу! Не пропущу!» Только зря стращала, не таковский это был парень, чтобы испугаться. Метелица, можно сказать, из последних сил надрывается, а он знай себе мчится вперед, и никаким способом его не остановишь.
Заметили эту картину фашисты со своего берега. Заметили и зубами заскрипели от злобы. «Нет, врешь! — кричат шоферу. — Не бывать тебе в Ленинграде, заставим поворачивать обратно!». И сразу, конечно, открыли стрельбу из орудий. Снарядов не считают, палят без остановки — лишь бы остановить. Но и снаряды не помогли. Мчится наш паренек через огонь и смерть, едва успевает воронки объезжать. Так бы, верно, доехал до цели, да подстерегла его новая беда. Не выдержал мотор в машине, отказал. Парень выскочил, пробует завести его, но ничего не получается. Прихватило мотор холодом, не хочет заводиться, молчит. А метелица добычу почуяла, еще сильней стала выть над головой: «Ага, непослушный, попался ко мне в лапы! Теперь никуда не денешься! Заморожу, снегом захороню, в ледяшку бесчувственную оберну!»
Что тут станешь делать? Другой, который духом слабоват, скорей всего отступился бы: дескать, сделал все, что мог, а судьбу разве переспоришь... Только геройский этот паренек был не таков, настоящего закала был комсомолец. Переломить его не переломишь, а согнуть и подавно невозможно. Стал он думать, как найти выход из положения, как доставить ленинградцам хлеб. Видит — нет другого выхода, надо на крайность решиться. Смочил он свои руки бензином и зажег их, как факел среди ночи. Потом обнял застывший мотор, словно любимую невесту, и вдохнул в него жизнь...
Дослушать до конца легенду о безыменном ладожском водителе, совершившем великий подвиг, мне не удалось — пришел политорганизатор домохозяйства, и мы отправились с ним в райком партии.
Неделей позже, в том же декабре 1941 года, я уехал на Ладожское озеро, где вскоре услышал уже не легенду, а самую доподлинную историю, которая очень напоминала все то, о чем рассказывала тетя Нюша.
* * *
Филипп Сергеевич Сапожников, с которым приключилась эта история, прослыл за человека медлительного и вялого. До войны он работал шофером на легковой машине, возил начальство в каком-то ленинградском тресте и, чаще всего, безмятежно дремал за баранкой своего блистающего лаком «Бьюика», дожидаясь, пока директор соберется ехать на обед. От легкой жизни или, быть может, от предрасположенности к полноте, Филипп Сергеевич стал к тридцати годам не по возрасту важным и солидным. Сонные его глаза обычно не выражали ничего иного, кроме желания пребывать в покое.
Очутившись в одном из автомобильных батальонов ледовой трассы и приняв плохонький грузовичок-полуторку с изношенным, вечно капризничавшим мотором и разбитым кузовом, Сапожников понял, что от старых привычек придется отказываться. Начинается новая жизнь.
Работа на ледовой трассе, напряженная, нервная, полная всяческих опасностей, ничем не напоминала однообразных трестовских будней. Каждый рейс за хлебом был смертельно опасным делом, каждый день гибли люди и машины. Скудные блокадные пайки ленинградцев добывались здесь дорогой ценой.
На первых порах с непривычки Филиппу Сергеевичу пришлось плохо. Он выезжал в рейс вместе с товарищами, но возвращался почти всегда один, опаздывая на сутки, а то и на двое.
Сапожникова преследовали бесчисленные дорожные неудачи. То и дело засорялось зажигание, и, пропустив вперед колонну, Филипп Сергеевич подолгу чистил шланг бензоподачи. Со зловещим шипением выпускали воздух старые, штопанные-перештопанные камеры, а заклеивать их на морозе — любой шофер подтвердит это — было сущим наказанием.
Лицо Сапожникова неузнаваемо осунулось. В глазах его теперь, как и у других ладожских водителей, постоянно горела злая искорка измученного трудной жизнью и постоянными неудачами человека.
Однажды, возвратясь из рейса с опозданием, Филипп Сергеевич увидел на базе батальона новый плакат. Толпившиеся возле него шоферы, заметив подходившего Сапожникова, дружно расступились. На плакате было написано: «Водитель Сапожников! Вчера, 3 января 1942 года, пять тысяч ленинградских женщин и детей остались по твоей вине без хлебных пайков».
Низко опустив голову, Филипп Сергеевич побрел в землянку своей роты. Что мог он сказать в оправдание? Не расписывать же товарищам, как снова отказал мотор его полуторки, как нервничал он, дожидаясь прибытия аварийной «летучки», — у других тоже не новенькие машины. И работают лучше его, не опаздывают на целые сутки.
Вечером, перед уходом колонны в новый рейс, Сапожникова вызвал комиссар батальона Серго Акопян. Характер у комиссара был вспыльчивый, и Филипп Сергеевич заранее приготовился к крупному разговору. Но Акопян, против обыкновения, говорил тихо, не вскакивал из-за стола, не размахивал в гневе руками.
— Послушай, товарищ Сапожников, ты же сам ленинградец, — сказал комиссар, в упор глядя на Филиппа Сергеевича. — Неужели забыл о своем городе?
И так это было сказано, с такой душевной болью, что Филипп Сергеевич отпрянул, словно его ударили по лицу. Сгоряча он начал объяснять комиссару свои дорожные приключения, но вдруг замолчал. К чему тут оправдания? Виноват — и молчи.
Серго Акопян был сердечным человеком, хотя и срывался иногда, не умея вовремя сдержаться. Он понял, что происходило сейчас в душе водителя.
— Возьми себя в руки, товарищ Сапожников, — сказал комиссар. — Хочешь, дам совет: ты рассердись, рассердись по-настоящему. Ведь ты мужчина с характером, я знаю... Рассердись — и все пойдет как надо, не хуже других начнешь работать...
Через полчаса Филипп Сергеевич выехал в рейс. И опять ему не посчастливилось. Возле Тихвина, возвращаясь с ржаной мукой, колонна ладожских машин попала под бомбежку. Полуторку Сапожникова взрывной волной сбросило в глубокую придорожную канаву. Товарищи, убедившись, что шофер не пострадал, умчались вперед, колонна не могла ждать одного, а ему опять пришлось сидеть возле опрокинутой машины, пока не прибыла аварийная «летучка».
Дальше пошло еще хуже.
На озерном участке Сапожникова настигла пурга. Это была обычная для Ладоги пурга, неистовая, дикая, готовая подстроить водителю какую-нибудь пакость. Она лезла во все щели старенького грузовика, завывала и бесновалась вокруг одинокой машины и, что особенно удручало Сапожникова, засыпала снегом ветровое стекло.
Проще простого было остановить машину, захлопнуть поплотнее дверцы кабинки и терпеливо пересидеть непогоду. Вражеские бомбардировщики навряд ли поднимутся со своих аэродромов, пока не стихнет пурга; обстрел со шлиссельбургского берега тоже не особенно страшен, если кругом твоей машины пляшут снежные вихри. Покуривай себе в кабинке, время от времени растирая лицо снегом, чтобы не уснуть.
До разговора с комиссаром Филипп Сергеевич не стал бы долго раздумывать. Стоит ли рисковать без нужды? Ведь он бессилен против разбушевавшейся стихии.
Но сегодня Сапожникову хотелось поскорей добраться до склада. Остается совсем немного — проскочи с десяток километров, и перед тобой откроется знакомый берег.
Страшнее всего в непогоду — сбиться с грузовой нитки. Филипп Сергеевич хорошо это понимал. Часто останавливаясь и протирая рукавом шинели ветровое стекло, он пытался различить хоть какие-нибудь признаки дороги. Кругом виднелись одни сугробы. Ночь опустилась над Ладогой, а в ночи бушевала пурга.
И тут произошло самое неприятное. Жалобно чихнув несколько раз, замолк мотор его грузовика.
Сапожников рывком выскочил из кабинки. Действовать нужно было с молниеносной скоростью — иначе мотор успеет застыть, и тогда завести его будет невозможно. Закоченевшими, негнущимися пальцами он перебрал карбюратор, продул шланг бензоподачи, но мороз, как видно, действовал еще быстрей.
Оставалось только одно средство: разогревать мотор. Но чем его разогреешь на таком ветру? Отдирать доски от кузова? Нет, не годится, растеряешь груз. Ветоши, которую можно смочить бензином и зажечь, в машине не нашлось.
Тогда Филипп Сергеевич вспомнил о своих варежках. Эти подбитые собачьим мехом суконные варежки прислала ему мать; руки в них совсем не мерзли. «Филя, родненький сыночек, — писала она из Кировской области, куда эвакуировалась еще в августе с детским домом, — обо мне не беспокойся, мы тут хорошо устроены. Исполняй свою службу по-честному, по-сапожниковски, как твой отец в 1918 году». Отца, расстрелянного интервентами в Мурманске, Филипп Сергеевич знал лишь по единственной уцелевшей в семье фотографии. С пожелтевшей карточки, висевшей в комнате матери над кроватью, на него лукаво поглядывал молодой балтийский матрос в форменном бушлате, в пулеметных лентах крест-накрест. «Не робей, друг Филя!» — говорил его веселый взгляд.
Филиппу Сергеевичу было жалко расставаться с подарком, но ничего другого придумать он не мог. Облив варежку бензином, он надел ее на заводную ручку, чиркнул спичкой и начал разогревать мотор.
Это было совсем не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Ветер раздувал пламя, отгоняя его от мертвого и холодного железа к живой человеческой руке. И, как ни поворачивай заводную ручку, огонь все равно лизал пальцы.
Не выдержав, Сапожников бросил ручку на снег. Потом снова взял обожженными пальцами, решив потерпеть. Так повторилось несколько раз. Он бросал ручку, вскрикивая от боли, затем снова брал в руки и подносил к мотору.
В конце концов цель была достигнута. Старенькая полуторка задрожала, сотрясаясь от бешеных оборотов ожившего мотора.
Последние километры были самыми мучительными; Пальцы Сапожникова покрылись волдырями. Малейшее прикосновение к ним вызывало резкую, нестерпимую боль.
Филипп Сергеевич забрался в кабинку. Зажмурив глаза и стиснув зубы, он взялся за баранку. Но удержать ее не смог, точно пластмассовая баранка превратилась в раскаленный докрасна металл.
По-прежнему на озере бушевала пурга. Лохматые языки белого пламени полыхали вдоль всей трассы. Свистел ветер.
Сапожников не чувствовал холода, не слышал воя пурги. Думал он лишь об одном: надо доехать, надо обязательно дотянуть до склада!
Регулировщица, дежурившая возле спуска на озере, первой заметила его машину. Грузовик шарахался из стороны в сторону. Регулировщица не могла понять, что с ним происходит.
Подбежав к машине, чтобы хорошенько отчитать нарушителя порядка, она застыла в изумлении.
В кабинке полуторки, как-то неестественно скорчившись, сидел смертельно бледный водитель с перекошенным от боли лицом. Локтями он упирался в баранку, а растопыренные пальцы держал перед собой.
— Зови кого-нибудь! — прохрипел водитель. — Мне не поднять машину в гору...
Через несколько минут к машине прибежала запыхавшаяся медсестра. Она взглянула на пальцы водителя, приказала пострадавшему немедленно идти в госпиталь. Филипп Сергеевич покачал головой:
— Обожди, сестричка, не торопись.
Ему хотелось самому сдать на склад доставленный хлеб, убедиться, что все в порядке.
Так он и поступил, упрямая душа. Доехал до склада, сидя рядом с подоспевшим товарищем, хозяйственно пересчитал мешки с мукой, посмотрел, как их укладывают на железнодорожную платформу.
Кто знает, как рождаются легенды?
Быть может, этот случай послужил основой для рассказа тети Нюши, который я услышал на Петроградской стороне, а может быть, и другой — утверждать наверное не берусь.
Случилось это в ночь под 1942 год.
Приехав на склад восточного берега и встав в очередь на погрузку, Максим Твердохлеб рассчитывал, что на его «Газик», как всегда, положат тридцать мешков муки.
Ржаная мука в ту пору ценилась дороже золота. Возле складских ворот на щите висело объявление, размашисто написанное синими чернилами: «Товарищ водитель! Если ты перевезешь сто килограммов муки сверх плана, то обеспечишь хлебными пайками тысячу ленинградцев».
Вместо мешков на полуторку Твердохлеба принялись укладывать небольшие фанерные ящики. Тяжелые боеприпасы для гвардейских «катюш», мясные консервы и сгущенное молоко перевозили обычно в другой упаковке — поплотнее, помассивнее. Эти же ящики, судя по всему, были легковесны. Кроме того, от них исходил непривычно тонкий и свежий запах.
Твердохлеб работал без сменщика уже третьи сутки и собирался чуточку вздремнуть. Напрасно думают иные, что десятиминутный сон ничего не дает. Для усталого, в конец измотанного человека даже этот коротенький отдых — великое дело. Пусть грузчики заполняют кузов машины, пусть кладовщик выписывает накладную. В тот самый момент, когда все будет готово, шофер поднимет отяжелевшую голову, с ожесточением протрет слипающиеся глаза — и вновь в дорогу.
Но то ли мешал этот щекочущий ноздри запах, то ли по другой причине, а задремать Твердохлебу не пришлось.
Выйдя из машины, он решил поинтересоваться доставшимся ему грузом. Надо знать, что везешь, нельзя работать втемную. И вдруг прочел совсем уж загадочные слова. На каждом из ящиков виднелась отчетливая надпись: «Детям героического Ленинграда».
Твердохлеб был удивлен. Что же в них такое? Неужто мандарины? По запаху вроде похоже. Но откуда они могли взяться здесь, эти чудесные плоды благодатных субтропиков?
Кузов полуторки быстро заполнился. К грузовой эстакаде подошел помощник начальника склада. Это был хмурый, неразговорчивый, вечно чем-то озабоченный майор; шоферы между собой называли его Скрипуном.
— Ценный груз доверяется вам, товарищ старшина, — произнес Скрипун и улыбнулся, что случалось с ним не часто. — Так сказать, особой важности. Сегодня только получили из Тбилиси. Подарочек ребятишкам к Новому году, отвезете в Ленинград прямым рейсом...
— Слушаюсь, товарищ майор! — козырнул Твердо-хлеб. — Будьте спокойны, доставлю в сохранности!
— На девятом километре поглядывайте. Там трещина на льду, не угодите в аварию...
— Есть поглядывать!
— И вообще поезжайте аккуратненько, без обгонов и лихачества.
— Есть без лихачества!
Уже смеркалось, когда Твердохлеб выбрался на ледовый участок. Вечерние часы считались здесь наиболее спокойными. Фашистские бомбардировщики чаще всего прилетали днем либо позднее, часам к одиннадцати, чтобы развесить над дорогой долго не гаснущие осветительные бомбы и охотиться за ночными колоннами.
На озере было тихо и безветренно. Лишь мороз стал к вечеру еще сильнее, но холодов шоферы «дороги жизни» не боялись, справедливо считая их верными союзниками: чем крепче мороз, тем лучше, тем надежнее становится трасса.
Все складывалось удачно. Твердохлеб рассчитывал проскочить ледовый участок на большой скорости, за полчаса или, в крайнем случае, за сорок минут. Тогда мандарины из Грузии поспеют в Ленинград к сроку — как раз перед Новым годом.
Главное — не попасть под обстрел или бомбежку, не наскочить на случайную полынью. Тогда, пожалуй, он сумеет и сам вернуться в ротную землянку до полуночи. Правда, нет в ней праздничного стола, не сверкает огнями красавица елка, но это неважно. Всегда приятно посидеть с товарищами возле жарко полыхающей печки, а в новогоднюю ночь и подавно. Начнется бесконечная солдатская беседа о том, о сем, станут друзья показывать фотографии своих жен и невест, примутся вспоминать, как жилось до войны — разговора хватит надолго.
Увы, всем этим расчетам Твердохлеба не суждено было оправдаться! Не успел он доехать и до середины озера, как услышал противное металлическое завывание «Юнкерсов».
Высунувшись из кабины, он увидел самолеты врага. Так и есть — бомбардировщики с черными крестами на крыльях! Идут в излюбленном строю, девяткой, возвращаясь с очередного налета на Ленинград.
Твердохлеб прибавил газу; он еще надеялся остаться незамеченным. Подумаешь, цель — одиночная машина! Возможно, фашисты не захотят с ним связываться. Но, когда от девятки отделились два крайних бомбардировщика и повернули в боевой разворот для пикирования, все стало ясно.
Его заметили, его решили уничтожить.
Начиналась охота, жестокая и беспощадная охота на беззащитного человека. Ладожские шоферы называли ее игрой в кошки-мышки.
Почти все в этой игре зависело от умения и выдержки шофера. Сохранишь хладнокровие, сумеешь, маневрируя скоростями, увернуться — будешь жив. Ну, а если сдадут нервы, — значит, пиши пропало.
Выждав момент, когда самолеты свалились в отвесное пикирование, Твердохлеб резко затормозил свою полуторку. Он ждал разрывов бомб, но вместо этого услышал гулкие пулеметные очереди. Пули прострочили лед впереди его машины — частый дождь мелких ледяных осколков застучал по кабинке и ветровому стеклу.
Для начала вышло неплохо. Оба самолета промазали, обманутые хитростью водителя. Однако бомбардировщики не собирались прекращать охоты. Выйдя из пике, они заходили в новый круг.
Стиснув зубы, зло поигрывая желваками на давно небритых щеках, Твердохлеб не спускал глаз с фашистов. Вот они снова пикируют, включив сирены. И снова, разогнав машину, водитель жмет на тормоза.
Во второй раз головной бомбардировщик тоже промахнулся, выпустив очередь раньше срока. Зато другому удалось зацепить краем длинной очереди кузов машины, где лежали ящики с мандаринами.
Положение складывалось грозное. Проще всего было выскочить на лед и, отбежав в сторону, спрятаться за каким-нибудь снежным сугробом. Пусть уничтожают машину — жизнь дороже. Не раз поступали на Ладоге таким образом, когда не оставалось другого выхода.
Так поступил бы и Твердохлеб, если бы не ярость, овладевшая им в эти минуты. То была ярость доброго и справедливого человека, которому мешают выполнить его долг. Вот уж два месяца трудится он, словно одержимый, спит урывками, съедает свою порцию солдатской каши не вылезая из пропахшей бензином кабинки, забыл про баню, про чистое белье. Никто его не принуждает работать за троих, надрываясь из последних сил, — просто он не может иначе: ему надо спасти от голодной смерти тысячи ни в чем не повинных людей. И вот его расстреливают ради забавы, спокойно и методично пикируют на его машину, благо ему нечем ответить. И он, Максим Емельянович Твердохлеб, простой советский труженик, привыкший уважать свое достоинство, должен уступить этим негодяям без борьбы? Испугаться за свою шкуру, бросив доверенный ему груз? Нет, не бывать этому! Не бывать, пока бьется его сердце, пока руки способны держать баранку машины!
Фашисты заходили в новый круг. Они были уверены в успехе. Никто не успеет прийти на помощь обреченному русскому шоферу, как бы ни хитрил он, как бы ни увертывался от смертельного удара. Обреченный погибнуть — погибнет.
Затрещали пулеметные очереди.
Полуторка резко рванула вправо, не слушаясь руля. Твердохлеб понял, что пробит передний скат. Но мотор еще работал. Значит, надо продолжать борьбу. В конце концов на всяком самолете рано или поздно кончается боезапас. Должны выдохнуться и эти молодчики.
Следующая очередь снова пришлась по ящикам с мандаринами. Несколько пуль пробили ветровое стекло, оставив на нем густую сетку морщинок. Твердохлеб был невредим, точно благословение ленинградских матерей оберегало его от гибели.
Трудно стало управлять машиной. Из пробитого радиатора вытекала вода. Пластмассовую баранку разнесло в клочья, острые осколки впились в лицо и руки водителя.
Выиграть время — вот в чем заключалось спасение. Еще заход, ну, в крайнем случае, еще два захода, и фашисты оставят его в покое. Вот-вот могут появиться в небе и наши истребители, патрулирующие ледовую трассу. Тогда, в этом нет сомнения, вражеские летчики кинутся наутек, не приняв боя.
Но как продержаться эти последние минуты?
Машина не хочет слушаться шофера. Истерзанная, продырявленная, с перебитыми скатами и обледеневшим радиатором, она шарахается из стороны в сторону. Просто удивительно, что не заглох мотор.
Твердохлеб забыл обо всем на свете. Кровь струилась по лицу. Он вытирал ее рукавом шинели, не выпуская обломков баранки, и вел машину вперед.
— Врете, разбойники, не бывать по-вашему! — шептал он воспаленными пересохшими губами. — Не выйдет! Не выйдет!
Затянувшееся сопротивление принудило фашистов изменить тактику. Теперь они пикировали на полуторку Твердохлеба с двух сторон, рассчитывая таким способом одолеть, наконец, упрямца.
И верно: следить за обоими самолетами невозможно. Один заходил спереди, другой сзади.
До берега было совсем близко. Уже виднелись вдали темные силуэты сосен на осиновецком мысу. За ними, в ложбинке, примыкающей к железнодорожной станции, находился склад. Только бы дотянуть до него, только бы выдержать до конца!
Последняя атака оказалась самой страшной. Разъяренные неудачей фашисты пикировали чуть ли не До ледяной поверхности озера. Казалось, они готовы таранить неуязвимого смельчака, сумевшего противоборствовать им в этом неравном поединке.
И все же победил Максим Твердохлеб!
Израсходовав весь боезапас, бомбардировщики улетели.
Сорок девять пробоин насчитали складские работники на полуторке Твердохлеба, пока медицинская сестра делала ему перевязку.
А на следующий день в Ленинграде раздавали детям подарки, присланные из Грузии. Иные мандарины были пробиты вражескими пулями — это никого не огорчило. И не с празднично украшенных елок снимали душистые плоды, как бы излучающие тепло в холодных домах блокированного города, — на это тоже никто не обратил внимания.
Дети радовались, а это было важнее всего.
Нет, поглядев на Кошкомбая Оспанова, никто не называл его могучим богатырем!
Худенький, низкорослый, с тонким лицом и печальным выражением, как бы навсегда застывшим в его глазах, Кошкомбай производил впечатление слабого здоровьем юноши. Стоило ему прийти в санчасть, и любой доктор, нисколько не задумываясь, отправил бы Кошкомбая на госпитальную койку. И еще поругал бы за то, что долго не обращался за медицинской помощью.
Но в том-то и дело, что ни врачи, ни даже товарищи по батальону, жившие с ним в одной землянке, ни разу не слышали от него жалоб. Выходили из строя куда более сильные люди, сваливались точно убитые, едва добравшись до своего места на нарах, и засыпали непробудным сном, а маленький Кошкомбай все работал и работал, как будто ему неведома была усталость. Даже в складских очередях не хотел он, как другие, обхватив руками баранку и зябко втянув голову в плечи, чуточку вздремнуть, хотя право шофера на этот коротенький отдых считалось неоспоримым.
— Шибка давай! Шибка работай, шибка! — торопил он грузчиков и, не выдержав, сам принимался носить тяжелые мешки с мукой.
Его так и прозвали на складах — товарищ Шибка — и машину Кошкомбая старались пропустить в первую очередь.
Командир батальона Василии Антонович Порчунов приметил этого водителя еще в первом рейсе через Ладогу, с которого началось автомобильное движение по «дороге жизни». Порчунову было приказано тогда возглавить пробную колонну. Ехали ночью, со снятыми дверцами кабинок, не смея включить фары, настороженные, готовые к самому худшему. Молодой неокрепший лед потрескивал под колесами машин.
На семнадцатом километре колонну Порчунова подкараулила беда. Комбат, сидевший в головной полуторке, вдруг услышал позади себя шум. Мгновенно выпрыгнув из кабинки, он успел заметить, как один из грузовиков, задрав кверху передние колеса, проваливается под лед.
Порчунов побежал к месту катастрофы. Машина погибла; вытаскивать ее будут водолазы; но, может быть, еще удастся спасти водителя?
На краю полыньи лежал шофер. Это был Кошкомбай Оспанов; по лицу его текли слезы.
— Ты чего плачешь? — Спросил командир батальона, когда колонна двинулась дальше, и недовольно поглядел на сидевшего рядом с ним Кошкомбая: — Перепугался?
— Машина жалка, товарищ майор! — ответил Кошкомбай. — Очень хороший был машина, зря пропадал, без польза...
— Да ты же сам мог погибнуть, чудак человек!
— Сам живой остался — машина пропадал... Хороший был машина, жалка очень...
Позднее, добравшись благополучно до восточного берега и начав погрузку, Порчунов совсем забыл про водителя утонувшей полуторки. И, признаться, не сразу разобрал, о чем толкует этот маленький боец, когда Кошкомбай остановил его возле высокого складского штабеля.
— Давай санка берем, товарищ майор, — настойчиво повторял Кошкомбай. — Санка, понимаешь? Добавочный хлеб будет... Добавочный хлеб повезем — лишний народ сытый сделаем...
— Ничего не пойму, — пожал плечами Порчунов. — Что за санка?
— Деревянный санка, по-русскому дровня называется... На прицеп давай берем, хорошо будет...
Сообразив, наконец, о чем идет речь, Порчунов был удивлен сметливостью Кошкомбая. И как это он, старый автомобилист, сам не смог додуматься до такой простой вещи? Ведь санные прицепы позволят взять хотя бы по три лишних мешка муки на машину. Шестьдесят машин — сто восемьдесят мешков, прямой расчет. Молодец Кошкомбай!
Прошло больше месяца с того злополучного дня, когда полуторка Кошкомбая затонула в полынье. В опытных рейсах больше не было нужды — «дорога жизни» стала круглосуточно действующей фронтовой магистралью.
Кошкомбаю выдали новую машину. Работал он на ней превосходно и прочно закрепил за собой почетное звание лучшего водителя батальона. Товарища Шибку знала вся Ладога.
Однажды Кошкомбая назначили в сквозной рейс на Ленинград. Пятнадцать ладожских грузовиков, не останавливаясь, проехали через весь город и, сдав груз в Колпине, возвратились на один из заводов Выборгской стороны.
Пока крановщики устанавливали на машины ящики с оборудованием, которое требовалось переправить на Большую землю, Кошкомбай решил заглянуть в цех, где ремонтировали танки.
Сперва этот огромный двухпролетный цех показался ему вымершим. Сквозь застекленную когда-то крышу падал снег. На кирпичных стенах, на проводах электрического освещения, даже на станках висели причудливые ледяные сосульки.
Приглядевшись, Кошкомбай понял, что цех живет. В главном пролете стояли серые громадины забрызганных дорожной грязью танков, а возле них не торопясь копошились рабочие. Движения их были вялыми, замедленными, но все же они работали, восстанавливая поврежденные боевые машины.
На башне крайнего танка Кошкомбай заметил пожилого рабочего. Сидя на броне, он был зачем-то привязан веревкой к стволу танковой пушки. Рабочий осторожно карабкался, силясь дотянуться до смотровой щели. Веревка стесняла его движения.
— Давай помогать буду,— предложил Кошкомбай и вынул из кармана складной нож, намереваясь перерезать веревку.
Рабочий медленно покачал головой. На его исхудавшем лице мелькнула улыбка.
— Спасибо, милый друг. Без веревки мне нельзя. Силенок маловато, упаду...
— Ты сам себя привязал?
— А кто же меня станет привязывать? Понятно, сам.
Кошкомбай был потрясен. Он многое слышал об упорстве ленинградцев, об их выдержке и стойком характере. Ему вдруг захотелось сказать этому человеку о том, как они трудятся на Ладожском озере, как стремятся облегчить бедственное положение осажденного города. Но разве об этом надо рассказывать?
Круто повернувшись, Кошкомбай побежал к своей полуторке и скоро вернулся с маленькой краюшкой хлеба, сбереженной от скудного красноармейского пайка.
— А сам как же? — спросил рабочий, протягивая руку за краюшкой.
— Бери, ата, пожалуйста, бери! — Кошкомбай даже не заметил, что называет его по-казахски отцом.— Тебе надо, ата, ты настоящий герой...
После поездки в Ленинград Кошкомбая будто подменили. Он и до того был трудолюбив, а тут и вовсе стал одержимым. Не спит, отказывается от отдыха, все в рейсах и рейсах — сутки напролет.
Еще заметили его друзья, что перестал он съедать свой паек. Половину хлеба, а то и котелок с кашей норовил прихватить с собой в рейс.
Сперва никто не понимал, для чего он это делает. Некоторые шоферы начали посмеиваться: «Не иначе, как товарищ Шибка запасает себе «энзе» на всякий случай».
Секреты в общежитии недолговечны. Скоро тайну Кошкомбая узнал весь батальон.
По соседству со складами западного берега, в рыбачьем селе Борисова Грива, помещался эвакопункт, где ждали обычно переправы через озеро покидающие город женщины и дети. В Борисову Гриву и заворачивал Кошкомбай перед каждым рейсом. Приедет, поманит пальцем первого попавшегося на глаза мальчонку и, торопливо сунув ему свой хлеб, умчится на трассу.
Добровольное недоедание, конечно, не могло пройти для него даром. Маленькое скуластое лицо Кошкомбая сделалось еще меньше, щеки запали, нос заострился. Только узкие черные глаза, как всегда печальные, проницательные, жили на этом лице.
Человек выдыхался. Это было заметно всем, кто работал рядом с ним, хотя никому так и не привелось услышать от Кошкомбая ни одной жалобы.
Как-то раз, когда шоферы заправляли горючим свои грузовики перед очередной поездкой в Тихвин, Кошкомбай увидел, что к его полуторке направляется майор Порчунов.
— Вам, товарищ Оспанов, надо остаться дома,— сказал командир батальона, внимательно посмотрев на Кошкомбая. — Вместо вас сегодня поедет другой...
— Зачем остаться? — всполошился Кошкомбай.— Не нада остаться! Ехать нада!
— Ничего, Кошкомбай, отдохни немного, отоспись, это полезно для здоровья, — настоял на своем Порчунов.— А завтра возьмешься за работу с новыми силами, еще лучше дело пойдет...
Кошкомбаю не понравились слова командира батальона, но дисциплина есть дисциплина. Повернувшись по-уставному, он молча направился в землянку своей роты. Приказано отдыхать — значит, он будет отдыхать. Солдат обязан выполнять приказы начальства.
В землянке было тихо и дремотно. Дневальный читал газету, удобно пристроившись возле раскаленной печки. Домовито пахло жильем.
Кошкомбай лег на нары, укрылся с головой шинелью и закрыл глаза. Он будет спать, и никто не упрекнет его за то, что он улегся среди бела дня, — сам майор приказал ему отсыпаться до завтрашнего утра. Разве можно ездить без отдыха? От такой работы, майор правильно говорит, очень мало пользы, она разрушает здоровье. А вот завтра, набравшись свежих сил, он сделает гораздо больше. Можешь спать, Кошкомбай, ты заслужил отдых...
А сон не приходил.
Кошкомбай ворочался на нарах, уговаривая себя забыть обо всем на свете, но ничего не мог с собой поделать. То он начинал думать о своих товарищах, едущих сейчас по ледяной трассе на Кобону. Озябли бедняги, борются, как обычно, с неодолимой сонливостью, охватывающей шофера на гладкой дороге. То вдруг вспоминал огромный цех на Выборгской стороне, серые громадины танков, стоящих в широком пролете, и того пожилого рабочего, что привязал себя к пушке, боясь свалиться от голодной слабости. Вот кому нужен отдых, а вовсе не ему, молодому и сильному...
Кончилось все это тем, что Кошкомбай поднялся с нар и вышел из землянки. Под навесом не было легковой машины командира батальона. Кошкомбай подошел к часовому и, стараясь казаться равнодушным, спросил, где теперь может быть майор. Замерзший часовой ответил, что комбата срочно вызвали на трассу и возвратится он только ночью.
Кошкомбай не сел в кабинку своей машины и не умчался в рейс. Это было бы грубым нарушением дисциплины, непростительным для лучшего водителя батальона. Но отдыхать можно по-разному. Почему он, не контуженный и не больной, должен непременно валяться на нарах? Тем более, что его полуторка когда еще была в ремонтной мастерской, и за что в ней ни возьмись, — все нужно подтягивать и перебирать.
Разостлав на снегу старую мешковину, Кошкомбай полез под свой грузовик.
Майор Порчунов вернулся с трассы гораздо раньше, чем обещал, и, конечно, сразу увидел хлопотавшего возле машины Кошкомбая.
Проходя мимо, командир батальона отвернулся, сделав вид, что ничего не замечает.
| Предыдущая страница | Содержание | Следующая страница |