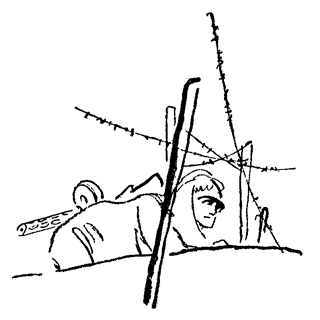
Свет погас неожиданно. Поезд словно вошел в туннель. Отчетливее стали все звуки — перестук колес, дыхание паровоза, ритмические толчки и скрипы вагонов. Пассажиры молчали. Все знали, что поезд вошел в опасную зону. Об этом не хотелось говорить, а старая тема беседы угасла вместе со светом.
Поезд шел из Москвы в Ленинград и преодолевал сейчас узенькую полоску земли, отвоеванную год назад в дни боев за прорыв блокады.
Гитлеровские пушки были в нескольких километрах. Между ними и поездом висела завеса — кромешная тьма ночи. Поезд проходил сквозь черную ткань. Пытаться нащупать его вслепую снарядами было делом нелегким. Гитлеровцы не стреляли.
Молодая женщина с погонами военного врача, сидевшая у окна, огорченно протянула:
— Ну, что это такое... Кто же Новый год в темноте встречает...
— В темноте, да не в обиде, — угрюмо сострил один из морских офицеров, сидевших напротив.
С верхней полки, где, беспробудно спал четвертый пассажир, неожиданно покатился радостный, мальчишеский хохоток. Следом за ним послышался скрип пружин, и все еще смеющийся голос добродушно предупредил:
— Поберегитесь, граждане, сейчас буду пикировать.
Заполнив собой чуть ли не все купе, пассажир легко двигался в темноте и, подняв шторку окна, долго вглядывался в мутную синеву ночи.
— Чему вы смеетесь? — недовольно спросила женщина.
— Простите, это я про себя. Вы напомнили мне, что я второй раз подряд на том же месте в темноте Новый год встречаю.
— Как это второй раз? В прошлом году на этом месте фашисты были.
— Были. С ними и встречал... Если товарищи не возражают, я могу рассказать.
Дружные восклицания убедили веселого пассажира, что его готовы слушать.
— Так вот, произошло это ровно триста шестьдесят пять дней назад. И ночь была под стать нынешней — сырость, муть. Полк, в котором я служил, стоял неподалеку от того места, где мы сейчас с вами едем. А кругом тут всё гитлеровцы занимали.
У меня лично в последние дни того старого года хлопот и неприятностей было столько, что на целый батальон неудачников хватило бы. Служил я в разведке. Поскольку дело прошлое, могу сказать, что в то время войска наши готовились к боям. Представляете себе обстановку: каждый день начальство наезжает, одно другого выше, и каждый данных о противнике требует. А на нашем участке, как назло, которую неделю ни одного пленного.
Уж мы и так, и этак, — не дается враг. Отборные люди ходили — ничего. В лучшем случае документы принесут и в доказательство своего усердия убитого фашиста притащут. А «языка» нет и нет. Начальнику моему командование житья не дает. А он, как водится, на мне душу отводит.
Злость меня разобрала. Как-то во время одного «теплого» разговора, когда меня разными словами утюжили, я возьми и брякни. «Ладно, — говорю,— к Новому году я вам «языка» доставлю. Слово офицера». — Повернулся и вышел.
Знаете, как бывает, — ляпнешь, а потом ходишь, локти кусаешь. Так и я, — прикидывал по-всякому, — ничего путного придумать не могу. Единственное решение, которое я смог принять, это самому живым без пленного не возвращаться. Сами понимаете, что решение не из мудрых.
Потом у меня вдруг как будто в голове форточку открыли, — продуло и прояснилось. Сначала пришла такая мысль: «Почему это я обещал пленного к Новому году? Откуда взялся этот Новый год?» — И вспомнился мне разговор с Курдюмовым.
Был у нас такой старшина, комсорг Вася Курдюмов. Земляки мы с ним оказались по Васильевскому острову. Сам он слесарем на Балтийском заводе работал, а за войну великолепнейшим разведчиком стал. Ну просто редкого таланта был человек. И руки разведчика, и нервы, и особенно — голова. Вначале я к нему относился без уважения, — фантазером считал. Уж очень он меня разными проектами донимал.
То он сколачивал комсомольскую бригаду для похищения живого немецкого фельдмаршала, — приставал ко мне, просил разрешения и даже мешок показывал, в котором того фельдмаршала должны были доставить. То конструировал какой-то агрегат наподобие пылесоса. По его идее хобот этой машины должен был с расстояния в двести метров всасывать зазевавшихся врагов и доставлять их прямо в наш штаб.
Но фантазии фантазиями, а в трудном деле был он человеком незаменимым. Хладнокровный, твердый и товарищ верный. Зато и любили его солдаты, особенно кто помоложе, беззаветно. Не было такой операции, на которую не пошли бы с ним с верой в успех. Только с инструктором политотдела не налаживался у него контакт. А все из-за того, что комсомольскую свою канцелярию держал Курдюмов в голове и никаких бумажек не заводил. О каждом своем комсомольце все досконально знал и часами мог рассказывать, а простую цифру для отчета клещами из него не вытянешь.
Так вот, вспомнил я один разговор с Курдюмовым. Излагал он очередной проект поимки «языка», связанный с наступающим Новым годом. Я тогда отмахнулся, а на этот раз взглянул как бы со стороны и решил, что, пожалуй, есть в нем крупицы здравого смысла.
Зашел к нему в землянку и с ходу говорю:
— Докладывай подробнее. Без «языка» больше нельзя. И мне позор, и комсомольцам твоим позор!
В общем, обсудили, договорились и стали готовиться.
Двинулись мы в начале одиннадцатого, как раз под Новый год. Пошли обычным порядком. По разминированному проходу подобрались к проволоке, подперли рогаточками, перекусили проволоку в четырех местах.
Курдюмов сразу шмыгнул в щель — и в сторону, по-пластунски. Я за ним. За мной Сабленко, тоже лихой разведчик; как раз перед этой операцией мы его в комсомол принимали. А за нами, только не следом, а напрямки, вспомогательная группа лейтенанта Гаркуши сунулась.
Как мы и ожидали, сразу же завертелась немецкая карусель: ракеты, треск, грохот. Пули, как бешеные, одна другую нагоняют, по снегу чиркают. Лежу и думаю: если шальная дура не зацепит, то все идет по плану.
Группа Гаркуши подалась назад и открыла ответный огонь. Это должно было означать: извиняемся, мол, провести вас не удалось и потому отходим с барабанным боем. Для большего шуму Гаркушу еще наши минометы поддержали.
Пока вся эта музыка, как по нотам, разыгрывалась, мы с Курдюмовым и Сабленко по сантиметру все дальше в сторону забираем. Халаты у нас новые, широкие, раскинешь полы, — с двух шагов от сугроба не отличишь.
Минут через двадцать все стихло. Гаркуша залег неподалеку и молчит. Гитлеровцы успокоились, — обычная тревога... Только изредка ракета взовьется, заставит нас «присохнуть», и опять темно, ни звука. Сориентировались мы и полезли на рожон...
Весь смысл курдюмовского проекта был в отъявленной дерзости. Представьте себе голую, как ладонь, местность, а в центре бугорок вроде холмика, и на нем пулеметная точка. Ядовитая была точечка. Гитлеровцы ее снежным валиком обнесли, ходами сообщения к блиндажам привязали и вели отсюда огонь чуть ли не на триста шестьдесят градусов.
На нашем участке более неприступной точки, пожалуй, и не было. И фашисты так считали. Только сдуру можно было сунуться на верную смерть. Вот в этом и увидел славный наш комсорг Курдюмов залог победы. К тому же правильно рассчитал, что встреча Нового года еще больше притупит бдительность врага. Так оно и вышло.
О точке нам еще было известно, что на ней неотлучно дежурят двое. А когда они сменяются и далеко ли остальной гарнизон расположен, понятия мы не имели. Поэтому заранее условились, что у гнезда располземся в стороны, возьмем его в клещи и будем действовать самостоятельно, в зависимости от обстоятельств.
Подползли к самому валику. Курдюмов на меня смотрит. Киваю ему головой и сам ползу вправо. Сабленко на всякий случай в центре остается с гранатами наготове.
Долго ли полз, не знаю. Вдруг слышу немецкие слова совсем рядом, будто у самого уха. Приподнялся на локте, вытянул шею, гляжу — подо мной траншейка. Влево, чуть поодаль—просторная площадка, ниши с козырьками и пулемет на укороченной зенитной турели. Один вояка рядом с пулеметом стоит, а второй— в двух шагах от меня нагнулся и что-то копает.
Не- успел я сообразить, что делать, как второй гитлеровец поворачивает ко мне голову и прямо в лицо смотрит. Я как лежал, вытянув шею, так и примерз. Чувствую, сердце куда-то провалилось и во рту сушь.
Сколько мы так смотрели друг на друга, не знаю. Мне казалось — час, а вероятнее всего — полмига. Потом он поднимает полную лопату со снегом и этаким небрежным движением — шварк мне в ноздри. Я ни с места, даже глаза не прикрыл. Соображаю: раз в меня снегом швыряет, как в пустое место,— значит, либо не разобрал в темноте, либо решил, что померещилось...
А я действительно лежу, как обрубок, и не дышу. В меня в ту минуту можно было горячими угольями швырять, не то что снегом. А пулеметчик в азарт вошел, лопаткой по траншейке орудует, снег выгребает, и все в меня. Залепил он мне и нос, и рот. Ах ты, — думаю, — черт неудобный! Ты меня так и похоронить можешь. А глаз с него не свожу.
Вижу, совсем он подо мной, — слышу, как пыхтит. Только подумал, что пора прыгать, — с площадки хрип донесся. И мой «подопечный» услыхал. Но я ему разогнуться не дал. На спину свалился, морду в снег и для прочности коленкой прижал.
Через минуту рядом со мной был Курдюмов. Принял он у меня пленного, сунул ему в рот заготовленную портянку, перевязал руки и смотрит на меня, улыбается. Все так быстро и ловко провернулось, что мы даже растерялись. Стоим и улыбаемся друг другу, как влюбленные.
— А как твой, — спрашиваю, — жив?
— Целенький, товарищ лейтенант. Свойский мужик,— сразу руки вверх и вроде обрадовался,— лицом выражает: «Я, мол, к вам всей душой».
— Тем лучше,— говорю, — больше расскажет.
Подполз Сабленко. Вручил я ему пленного и приказываю: «Тащи!» А Сабленко парень здоровый,— быка утащит, не крякнет. Взял гитлеровца, полой халата прикрыл и подался к нашей проволоке.
— Пойдем к пулемету, — говорю Курдюмову, — заберем второго.
И чувствую, что Курдюмов заскучал, сам- в себя ушел, как всегда, когда новый проект обдумывает.
Подошли мы к пулемету. Вижу, пленный сидит со связанными руками и ногами и с такой же курдюмовской портянкой во рту.
Вдруг Курдюмов шепотом спрашивает:
— Товарищ лейтенант, а который час пошел? Взглянул — без двадцати двенадцать.
— Выходит, мы к Новому году опаздываем.
— Выходит, — говорю и уже чувствую, что Курдюмов о чем-то просить будет. — Чего тебе?
— Хорошо бы фашистов поздравить, — отвечает и так умоляюще на меня смотрит. — А то как-то неудобно, пришли — ушли, никому ни слова.
Я Курдюмова понимал. Несмотря на удачу, и меня злость разбирала, что приходится Новый год встречать в темноте, на холоде, под открытым небом, да еще вдали от друзей-товарищей.
Посмотрел я на пленного и, сам еще не зная, на что решусь, говорю Курдюмову:
— Вытащи-ка из него кляп.
Пленный от радости щелкнул челюстями и действительно смотрит не злобно, а скорее заискивающе.
А я, нужно признаться, в средней школе когда учился, с немецким языком на ножах был. От одних звуков вся лень просыпалась. Поэтому, кроме «ейн, цвей, драй», ничего и не унес. А на фронте хотя жалеть было поздно, я все же на допросах и у переводчиков кой-чему нахватался.
Поэтому без всяких спряжений и склонений спрашиваю у пленного, где, мол, ваши офицеры Новый год встречают.
Он понимающе головой закивал и толково так объяснил. Понял я, что встреча состоится в блиндаже командира роты, что приехали гости из полка и все уже в сборе.
Выясняю дальше. Ближайшая землянка с солдатами метрах в сорока, за первым поворотом хода сообщения. Сменять пулеметчиков придут в два часа.
— Хорошо! Молодец!—хлопаю его по плечу и приказываю Курдюмову:
— Разворачивай пулемет и бери на прицел выход из землянки. Я скоро вернусь.
Курдюмов уцепился в меня и чуть не плачет.
— Товарищ лейтенант, дозвольте мне. Мое это дело. Не пущу я вас. Лучше уж так пойдем.
На часах без десяти. Спорить некогда.
— Ладно, бери его шинель, надень и бегом, будто с поручением. Поздравь — и назад.
Остался я на площадке один. Холодно, ветер пронзительный. Взгрустнулось мне, и стали меня сомнения одолевать. Понял я, что поступил по-мальчишески, что зря пошел на дурацкую затею, и Курдюмова и себя под риск поставил.
Стою у пулемета и себя ругаю. Гляжу на часы — без двух минут... До чего же медленно время в таких случаях тянется! Кажется, час еще прождал, смотрю — без одной... Пленный сидит, глазами в меня уставился и желваками двигает, будто курдюмовскую портянку пережевывает. И смех, и досада меня разбирают. Ну, думаю, и компанию мне бог послал ради Нового года.
Слышу взрыв, а за ним второй. Так только наши противотанковые рвутся. Потом короткая минута тишины — и началось... Полетели ракеты, потянулись трассирующие пули, шум, гам.
Из землянки выскочили солдаты. Я их встретил длинной очередью. Они сначала не сообразили, толкают друг друга, а я строчу и приговариваю: «С Новым годом! С Новым годом!» Опомнились они, кинулись назад.
Вижу, Курдюмов бежит. Лицо сияющее. И меня азарт захлестывает. Но все же понимаю, что пора уходить. Беру ракетницу и спрашиваю у своего немца:
«Направление огня — красная?» Показывает два пальца.
Выпускаю одну за другой две ракеты в сторону взорванного блиндажа. По трассирующим пулям вижу, что пулеметы перенесли огонь туда. Просвистели мины. Все в порядке. Теперь, пока они разберутся, кто, куда и почему стреляет, мы будем далеко.
Захватили мы пленного, перевалили через проволоку, пересекли минное поле, и только когда были на нейтралке, гитлеровцы открыли нам вслед ураганный огонь. Залегли мы в канавке и лежали долго.
Курдюмов тем временем рассказал мне, как он фашистских офицеров с Новым годом поздравил.
Блиндаж он отыскал в последнюю минуту. Когда глянул в окошко, все уже стояли с поднятыми стопками и что-то хором пели под радио. Потом поднесли стопки к губам. Пока пили, Курдюмов вышиб стеклышко, крикнул: «Закусите!» — и спустил им гранату. Вторую на всякий случай бросил к дверям.
Посмеялись мы. Глядя на нас, и пленный улыбнулся. Подождали еще немного, пока тише стало, и отправились домой.
А еще через две недели мы уже навсегда вышибали отсюда гитлеровцев...
Снова был я в этих местах проездом весной. Остановил машину, пошел искать памятную площадку, траншейку. Ничего не нашел. Все уже перекопано. На том месте, где Курдюмов фашистов поздравлял, путейцы укладывали шпалы вот этой самой дороги, по которой мы едем.
... Рассказчик замолчал. И он же первый прервал наступившую тишину.
— Что ж, товарищи, Новый год через минуту. Пиво из буфета принесли, пора наливать. Попросим нашего доктора быть хозяйкой стола.
Четыре стакана со звоном встретились в темноте. Морской офицер взволнованно произнес тост:
— Выпьем за эту дорогу и за всех, кто своей грудью отбивал ее у врага. С Новым годом, товарищи! С новыми победами!
Свет вспыхнул так же неожиданно, как и погас. Засияла шляпка каждого шурупа. Ослепительные золотые нити потянулись от ордена Александра Невского, украшавшего грудь пассажира с верхней полки.
Никто не удивился свету. Запрокинув головы и прищурив глаза, четыре человека медленно тянули душистое московское пиво.
| Предыдущая страница | Содержание | Следующая страница |